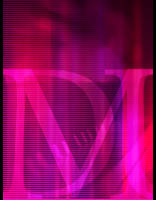Суммируя наши наблюдения над исследовательским методом Л.С.Выготского, мы приходим к заключению, что развитие образа Гамлета в одноименной трагедии Шекспира выявлено Выготским в спектре нескольких параллельно-пересекающихся линий фабулы и сюжета, отчего становится понятным, что психологическая основа трагедии характера необычайно усилена. Однако само по себе количество в ней этих линий, несмотря на наличие их замыканий, ещё не становится механизмом выявления трагического и его психологии. В раскрытии образа Гамлета трагическое сопровождается одним или несколькими неразрешёнными конфликтами, среди которых главным оказывается внутриличностный, обладающий трансмиссионной функцией32 и устойчивым структурно-содержательным ядром, основанным на переживании исповедальной, подчинённой нравственной максиме «пытки чувств».
Образ главного врага Гамлета — короля Клавдия — Выготский справедливо считает самым действенным33. Качество это учёный исследует многогранно. Согласно Выготскому, при всей парадоксальности король в трагедии преступником как бы не является (убийство брата совершено им до начала пьесы, да и все враги принца обречены на смерть трагедией свыше). К Гамлету король всячески расположен, старается наладить с ним отношения и даже развеять его скорбь, потому что для Клавдия она не безопасна и сулит ему гибель. Поэтому он находится в состоянии постоянной, приводящей к его гибели тревоги. Поэтому он предпринимает и определённые действия для вращивания Гамлета в придворную атмосферу, а в действительности, как бы сказал Д.Эльконин, — в свою интерпсихическую форму (организует встречи и беседы принца с Офелией, придворными, Полонием, матерью, даже театральное представление и, уже отчаявшись, — отъезд Гамлета в Англию, наконец, дуэль с Лаэртом). Поэтому-то складывается впечатление, что он торопится навстречу своей смерти, «готовит свою гибель» (Л.Выготский).
Однако от взора Выготского ускользает другая черта Клавдия — скорбь и покаяние как оборотная сторона его энергичной деятельности и душевных сомнений: «Удушлив смрад злодейства моего … Как человек с колеблющейся целью, не знаю, что начать и ничего / Не делаю» («O, my offence is rank, it smells to heaven … And, like a man to double business bound,
I stand in pause where I shall first begin») [27, 92–93]. Напрасно он пытается оправдать своё преступление необходимостью существования добра и зла. Он готов просить прощения за убийство брата, покаяться, но сознаёт цену свершённого преступления и понимает, что морального права молиться не имеет. За всё он платит муками совести, веря, однако, что всё ещё поправимо. Все эти перепады в психологическом состоянии Клавдия складываются в единую монологическую сцену, в которой раскрывается его внутриличностный конфликт.
Также и в сцене с Полонием, во время подготовки короля к подслушиванию разговора Гамлета с Офелией. Клавдий признаётся самому себе: «… щёки шлюхи, если снять румяна, не так ужасны, как мои дела под слоем слов красивых. О, как тяжко!» («The harlot's cheek, beautied with plastering art, Is not more ugly to the thing that helps it / Than is my deed to my most painted word: O heavy burden!») [там же. С. 70].
Из этих откровений становится ясным, что король в своих переживаниях в известной мере тоже оказывается трагическим героем, живущим в конфликте не только с Гамлетом, но и с самим собой. В раскрытии его образа тоже выявляется развитие линий фабулы и сюжета. Пользуясь методом Выготского, можно сказать о Клавдии, что по фабуле — он законченный злодей, в мыслях которого нет места раскаянию, по сюжету — злодей, осознающий своё преступление и готовый раскаяться.
Ещё один враг Гамлета — это потерявший из-за него отца и сестру Лаэрт. Выготский справедливо отмечает, что, в сущности, они не враги. Оба лишь «исполняют свои роли, назначенные им [потусторонними силами. — Г.К.], и только по совершении всего оба примиряются…» [5, 478]. Однако в поведении Лаэрта есть один секрет. В сцене поединка он испытывает угрызения совести. И когда отравленной рапирой собирается наносить Гамлету удар, говорит себе, что «это против совести поступок» («And yet 'tis almost 'gainst my conscience») [27, 156]. Сверх того, после ранения рапирой он осознаёт, что угодил в расставленные им же сети «за своё коварство» («The treacherous instrument is in thy hand, Unbated and envenom'd: the foul practise / Hath turn'd itself on me lo, here I lie»). А дальше — откровение Гамлету: «Я гибну сам за подлость и не встану» («It is a poison temper'd by himself») [там же. С. 157]. Не злодей, как Клавдий, а бывший друг, преисполненный мести, заранее осуждает свой будущий поступок и совершённую подлость. В итоге Лаэрт, на наш взгляд, — ещё один трагический герой с исповедальным признанием. По фабуле — он враг, по сюжету — враг-друг.
Образ Офелии Выготский рассматривает в тесной связи с трагической судьбой Гамлета, через которого в её жизнь, согласно Выготскому, тоже вторгаются потусторонние силы и ведут её к гибели. При всей справедливости этого наблюдения нам кажется, что далеко не всё определяется здесь вмешательством загробного мира. В душе Офелии существует внутриличностный конфликт между двумя чувствами — любовью к Гамлету и восприятием его как убийцы её отца. Это хрупкое беззащитное существо не в состоянии выбрать кого-то одного. Её запредельное психологическое напряжение находит выход в безумии34, где образ отца переплетается с образом принца. В сущности, судьба Офелии — это, скорее, отражение судьбы Гамлета, только её безумие настоящее.
С образом Офелии Выготский тонко связывает образ королевы, считая его женственно-расплывчатым, потому что не совсем ясно, знала ли она о преступлении Клавдия или нет, но Гамлета с королём хотела бы помирить. Не догадываясь, по всей видимости, ни о чём, она тем не менее вместе с сыном идёт к гибели. В этом наблюдении Выготского необходимо сделать некоторые уточнения.
Да, действительно можно допустить неосведомлённость королевы в преступлении короля. Но её поспешный выход за него замуж делает её невольной соучастницей преступления. Она чувствует это и испытывает муки совести. Обращаясь к Гамлету, она признаётся: «Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты, и их ничем не смыть» («Thou turn'st mine eyes into my very soul; And there I see such black and grained spots / As will not leave their tinct») [27, 98]. В сердце королевы живут два чувства — любовь к сыну и любовь к мужу-убийце. Она смертельно боится за судьбу Гамлета и вместе с тем впутана в опасные против него игры короля. Поэтому, если она поддерживает сына, то рано или поздно, независимо от вмешательства загробных сил, попадёт в расставленные сети мужа-преступника. В таком внутриличностном конфликте по фабуле королева — слабая женщина, однако по сюжету — она мужественно поддерживает сына, и даже умирая, через силу пытается его спасти.
Как уже отмечалось ранее, особую роль в драматургии «Гамлета» Выготский видит в предопределённости судеб всех героев. Качество это, характеризующее сущность трагедии рока, выявляется в результате вмешательства загробного мира в реальный и как бы его поглощения потусторонним. В отображении такого вмешательства учёный усматривает проявление немотивированного «закона трагического тяготения» (по принципу: «так надо трагедии») [5, 483], который с самых первых слов пьесы влечёт всех героев к гибели35. Не случайно, по мнению учёного, многие действия героев осуществляются уже после их смертельного ранения (признание Лаэрта об отравленной рапире, стремление умирающей королевы спасти сына, убийство короля Гамлетом, которому осталось жить не больше получаса, и даже первый, очень символичный поединок принца с Лаэртом, происходящий в могиле, которая предназначена для Офелии) 36.
Как мы полагаем, подобная трактовка трагедийности в «Гамлете» значительно сужает её понимание. Сила трагедии заключается не в предопределённой или случайной смерти героя, произошедшей в результате божественного провидения, когда источником смерти может оказаться какая-то нелепость, а в причине, исходящей из мыслей человека, его чувств и поступков, в которых выявляется его собственная вина. Ведь не снимает же, например, нравственной ответственности за семейные распри подобная проблема фатальной предопределённости в гибели прoклятого рода Лайя, к которым относятся сыновья Эдипа Этеокл и Полиник, изображённые в трагедии Эсхила «Семеро против Фив» [21, 13].
32. «Трансмиссионная», то есть передаточная функция между звеньями одного и того же явления — термин И.Рыжкина, относящийся к понятию музыкальной интонации [20, 243]. Термин «трансмиссионная» мы привлекли здесь в связи с заложенным в нём смыслом сохранения и передачи семантики содержания в понятии внутриличностного конфликта.
33. По словам Выготского, «механизм движения действия весь в короле, а не в Гамлете; не будь его, действие стояло бы на месте, потому что никто, кроме него, ничего не предпринимает в пьесе, даже Гамлет, и всё проистекает из действий короля…» [5, 473].
34. К диагностике её психологического состояния можно отнести определение З.Фрейда о душевных последствиях человека при их внешнем сдерживании: «наш душевный аппарат, в первую очередь является для нас орудием, при помощи которого мы справляемся с возбуждениями, обыкновенно воспринимаемыми нами мучительно и грозящими оказать на нас патогенное влияние. Психическая переработка этих возбуждений достигает исключительного напряжения, чтобы направить по внутреннему душевному руслу те возбуждения, которые не способны найти себе непосредственный выход наружу или для которых в данную минуту нежелателен такой выход» [25, 648].
35. По словам Выготского, «катастрофическое, роковое, гибельное всё нарастает, всё близится, так что катастрофа не является чем-то со стороны развязывающим эту бесконечную (то есть не имеющую конца в себе) трагедию, а внутренним результатом, неотвратимой неизбежностью внутреннего её строения. Всё время идёт к этой минуте, и в ней весь её смысл, вся цель» (5, 482].
36. Думается, такая трактовка трагедии соприкасается с пониманием З.Фрейдом зловещего, который, опираясь на учёного Э.Йенча, видел причину зловещего в интеллектуальной неопределенности: «Зловещим оказывалось бы, собственно, всегда то, в чём человек, так сказать, плохо разбирается» [24]. Но Фрейд, в отличие от Выготского, отношению к зловещему даёт научно-материалистическую трактовку, разубеждая читателя в агностицистском существовании рассматриваемого понятия. По словам Фрейда, для того, кто «напрочь и окончательно разделался в себе с этими анимистическими убеждениями, зловещее этого рода отпадает. Самое удивительное совпадение желания и его исполнения, самое загадочное повторение схожих переживаний на одном и том же месте или в одну и ту же дату, самые обманчивые видения и самые подозрительные шорохи не введут его в заблуждение, не вызовут в нём того страха, который можно обозначить как страх перед “зловещим”. Речь здесь, стало быть, идёт о проблеме проверки на реальность, о вопросе относительно материальной реальности» [там же].