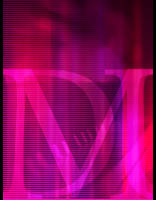|
МУСИГИШЦНАСЛЫГЫН АКТУАЛ ПРОБЛЕМЛЯРИ
РОССИЙСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ: НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ
Т. СЕРГЕЕВА
К.УМАНСКИЙ. АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
Интервью, данное А.Амраховой
ДМИТРИЙ КУРЛЯНДСКИЙ. ОБ ОДНОМ ИЗ 158 СПОСОБОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
Интервью, данное А.Амраховой.
|
|
А.А.: Меня несколько смущает тема нашего разговора, вернее, сама постановка проблемы: что нужно сделать, чтобы стать другим?
К.У.: И Вы подумали: а что не так-то?
А.А.: Нет, я подумала, что так нельзя ставить вопрос. Я проясню свою позицию. Расскажу присказку, это уже из тех книг, на которых росли мои дети, а не я сама. Потому что в моём детстве не было книжек под названием «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». И вот эти фантастические персонажи по ходу действия путешествуют на автомобиле, приезжают к озеру. Муфта говорит:
- Если бы Вы знали, как мне хочется окунуться в озеро.
-В чём же дело?
-Муфта мешает.
- Так снимем ее, и иди, купайся
-Не могу, ведь если я её сниму, то перестану быть муфтой.
Для меня этот вопрос, что мне сделать, чтобы стать не таким как я есть – из той же области неосуществимого. Невозможно на каком-то когнитивном уровне отказаться от чего-то в себе, можно заставить себя писать как-то не так, как ты любишь, но всё равно невозможно переучить себя мыслить, думать так, как ты склонен это делать, ибо как ты повёрнут к этому миру, так ты мыслишь и так ты будешь говорить.
К.У.: Суть моего вопроса вот в чём была. Допустим, есть автор, человек, у которого какоё-то внутренний органический недостаток характера. Я хотел обобщающего вывода, чего мне не хватает. Вустин мог мне давать такие советы координирующие. С этой точки зрения я хотел узнать Ваше мнение, - потому что когда нет никаких претензий…
А.А.: Когда нет никаких претензий, за этим может сквозить равнодушие. А разве всё, что я говорила…
К.У.: …со знаком плюс было, единственное критическое замечание: я наиболее традиционный композитор и вообще: что мне делать в АСМе?
А.А.: Кажется, я не была столь категоричной.
К.У.: Я пытаюсь примирить, может быть, непримиримые вещи. Законченность и сбалансированность формы у меня априорно воспитана в мерзляковском училище. У Семёнова – метапринцип озарения ярким светом (у Гоголя во всех Петербургских повестях проведено). Когда в один момент – вспышка – то, что тривиально выражается «вывести на чистую воду», вдруг становится ясным: кто ты, что с тобою было.
А.А.: Мы говорили о тембровой персонификации «Вечера в степи», но когда внимательно вслушиваешься во все Ваши произведения, понимаешь, что везде тембр в какой-то степени структурирует и композицию.
У.К.: Перефразируя Сальери, который утверждал, что родился с любовью к искусству, могу сказать, что я родился с любовью к оркестру и полифонии. Есть какие-то вещи, от которых я не могу отказаться и которые зиждят веру в меня самого. Я родился с любовью к тем вещам, которые обычно не любят, любовь к которым потом прививают. Особенно полифония является для меня атрибутом профессионализма в музыке.
А.А.: Ваше инструментальное мышление тоже в какой-то степени образно, оно имеет качество перехода в какую-то визуальность.
К.У.: Для меня это коренится в функциональности оркестровых групп. Я потом из теории стал узнавать такие вещи, которые меня поражали своей осмысленностью и правильным устройством, и, в то же время, за этим правильным устройством стоит нечто непостижимое совершенно, для меня никогда не теряющее свой смысл. Допустим, парность деревянного состава. Это же удивительно. Как это можно было сделать, чтобы не по одному инструменту, а парой? В этом какой-то фантом родился. У меня такая ассоциация… На кладбище переделкинском, где покоятся мои дедушка и бабушка, там лежат разные прослойки земли, как бывают полоски на пасмурном небе. Для меня эти слои ассоциируются с аккордами деревянных духовых, как это может быть и у Чайковского, и у Стравинского – всё равно – тонкие слои, сложные своим количеством, но хоть и тонкие, но слои глины, лежащие друг на друге, как стопка каких-нибудь старых тетрадей. Когда Тарнопольский говорит, что для него звучание симфонического оркестра сродни архитектуре высотных зданий сталинской эпохи в Москве, он прав в одном, и это проблема. Оркестр - это всегда военная машина, это всегда немножечко армия. Оркестр сам внутри себя развивает некий порядок. Ансамбль современной музыки – нет, это гораздо более гибкая, переделываемая на разные лады вещь. Оркестр всегда в себе содержит этот консерватизм функциональной предназначенности его групп. С ним очень трудно справиться, сделать это всё исключительно «своим». Даже если звучит небольшое количество инструментов в сидящем оркестре, всё равно слышно это дыхание акустического пространства, которое оркестр в себе несёт. Оно уже само по себе консервативно – это дыхание. С этим ничего нельзя сделать. Поэтому человек, который любит оркестр как таковой, ценит всё, что присуще ему, должен примириться с этим. И это не должно ему мешать в жизни. Мне это не мешает жить, единственная беда – у меня, к сожалению мало оркестровых сочинений. У меня завалены шкафы аранжировками, сколько мною сделано партитур – столько, наверное, у Вагнера нет музыки по количеству написанных тактов.
Диалог 5. АРАНЖИРОВКА
А.А.: А что Вы аранжировали?
У.К.: Что я только не аранжировал! Один из последних опусов - опера на темы военных лет. Называется «Жди меня», премьера уже состоялась в Нижнем Новгороде.
Я хотел сделать что-то по-малеровски. Малер, начиная с Первой симфонии, за счёт оркестрового моря своего, мог переплавить всё, что туда попадёт, и сделать своим. Ещё можно сравнить с любимым моим художником – И.И.Машковым, который, как бы в напоминание о более интенсивном восприятии мира, груши и яблоки делал больше, чем они есть на самом деле, но равно настолько, чтобы это не превратилось в панно на доме культуры. Это вообще тенденция моего поколения: ностальгия по полноте ощущения жизни своих родителей. От души захотелось воплотить тот настрой: как они жили, как они пели эти песни. Не дух патриотизма, а чувство жизни, которое в них было, а в нас как будто уже нет. Мне не хотелось, как сейчас принято говорить, переосмыслить или удивить новым прочтением – ничего подобного. Мне хотелось воссоздать не идеалы коммунистической партии, а эмоциональное состояние того времени, пафосность, которая во мне жива как память о предшествовавшем поколении. Пафосность, выражающая энергию жизни, любви в каком-то глубоком, потерянном смысле. Я хотел как бы рефлектор поставить и усилить то, что было: всё увеличить, всё насыщеннее выразить. Как было, но поярче. Плюс вот эта идея: сделать из песен оперные номера, тут уже пришлось пойти на компромисс, потому что нужно было, чтобы народ узнавал мелодии в их первоначальном виде и в песенной форме.
А.А.: Я не слышу стопроцентного энтузиазма и удовлетворения по поводу проделанной работы.
К.У.: Несколько разочаровало несхождение ожидаемого и реального. У меня была задумана музыкальная сага. Был ещё огромный текст, который шёл без музыки. Я согласился со многими изменениями. Режиссёр воплотила иной темп проживания всего.
А.А.: Она добавила, как сейчас принято говорить, экшна?
К.У.: У режиссёра и у композитора бывают разные взгляды на вещи, и приходится с этим мириться. Я теперь не буду так трепетать над нотами. Во всём я ищу утешения и какого-то смысла. Конечно, то, что для меня было важно: отбросить в сторону – кто написал эти песни и представить это так, что это конструктивные элементы, которые являются номерами моей оперы. Были специально сделаны новые аранжировки. Не все услышали, что они выстроены. Режиссёр Ольга Иванова всё выстроила по-своему. И всё-таки, когда я слушал всё это со сцены театра Нижегородской оперы и балета, захватывало дух, что моими руками всё это написано. Удовлетворение появится, когда пройдёт некоторое время и уйдут негативные эмоции.
В работе над аранжировкой надо поверить, что это стало твоим. Нужно полюбить то, с чем ты работаешь. Я уже привык – это такая игра, от которой трудно отказаться - эти аранжировки многочисленные, переодевание из костюма в костюм. Ведь это тоже работа с оркестром – я этим живу. Просто отнимает слишком много времени.
Я делал аранжировки и рок -музыкантам (Гарику Сукачёву), я сделал 22 симфонию М.Вайнберга. Вообще я с оркестром имею дела много, задумал симфонию.
А.А.: То есть сам жанр симфонии Вас не пугает? Вы не считаете что большой стиль – это вчерашний день?
К.У.: Нет. Я так не считаю. Чрезвычайно трудно написать неодночастное симфоническое произведение, чтобы оно выглядело очень убедительно.
Диалог 6. ОРГАН
А.А.: Как Вы пришли к органу?
К.У.: Ещё в музыкальном училище я начал заниматься в так называемом «органном кружке», обязательном для всех теоретиков и руководимом Галиной Васильевной Семёновой. Потом наиболее отличившиеся оставались заниматься уже в классе органа. После Семёновой я попал к Ольге Александровне Илларионовой. Уже в училище переиграл довольно большой репертуар. Помню, как отец возил меня на занятия, которые проходили с 7 до 8 утра. Нам обещали, что тех, кто будет хорошо заниматься, оставят в классе органа. Смешно сказать, наверное, но меня приводило в восторг: берёшь аккорд – и он тянется, почему-то никуда не девается, детская радость от этого. Мистический восторг. Потом я нашёл какие-то принципы звукоизвлечения, которые, мне казалось, я сам нашёл, но, может, они кем-то и были описаны, допустим, что некоторые звуки можно не только определённым образом взять, но и определённым образом снять. Этот кантус фирмус язычковый - как перехват дыхания – вызывает чувство самозабвенного пения.
А.А.: А в консерватории по классу органа Вы у кого занимались?
К.У.: Я учился у Ройзмана, пока не увёз ключ от зала с собой, случайно забыв его в кармане, за что он меня выгнал из своего класса, сказав при этом: «Парень ты хороший, мог бы играть на органе хорошо». Такие были строгости, к сожалению. За то, что я сорвал учебный день занятий в Малом зале консерватории, меня лишили занятий в органном классе на полгода вообще. Потом я попал к Светлане Ивановне Бодюл.
А.А.: Как Вы думаете, если бы Вы не забыли ключ, Ваша судьба сложилась как-то по-другому?
К.У.: Может быть. Я же играл с мерзляковки, и когда мне задавали более легкие сочинения, чем я играл в училище, (я довольно-таки рано освоил инструмент, многие начинали тогда осваивать орган в 19-20 лет, в стенах консерватории, а я начал в 15, в Мерзляковском училище). Бодюл говорила: «Никому не рассказывайте, сколько лет Вы на органе играете, чтобы Вам стыдно не было».
Я помню, что Ройзман мне дал Прелюдию и фугу до-мажор с прелюдией на 9/8 и сказал: «Это более простое сочинение, но его нужно на другом уровне сыграть». Я играю на зачёте и чувствую сам, что во мне выросло какое-то качество музыкантское. К сожалению, так жизнь устроена, какой-то кончик показался – вот этого качества - как могло бы быть. Наверное, я мог бы быть хорошим органистом, извините за нескромность. Просто тут какая-то генетическая предрасположенность. Как сказано в Песне песней (там про любовь, правда): «Вспомнила тебя душа моя», - вот также я могу сказать про орган. Драматизм ситуации в том, что я к четвёртому курсу стал чувствовать, что игра на органе стала поглощать полностью всё остальное, это отрицало композицию, потому что это было каким-то светящимся законченным храмом. Меня это напугало. Оставшись органистом, я перечеркнул бы себя как композитор. Те ценности, которые я созерцал, как органист-исполнитель, подвергали сомнению мою композиторскую деятельность, потому что это была ценность очень высокого порядка. Она уже подразумевала бессмысленность композиции - это был законченный мир, затягивающий тебя полностью. Конечно, хорошо прожить лет 800, чтобы успеть прожить сперва жизнь композитора, потом - органиста, музыковеда. Но всё-таки я не жалею, что стал композитором. Композиция предполагает переключение на себя самого полностью.
Диалог 7. ПЕДАГОГИКА
А.А.: Что для вас педагогическая деятельность? Она что-то даёт Вам как композитору или отвлекает от творчества?
К.У.: Мне интересно общение. Я в последнее время стал замирать и слушать: что происходит вокруг меня? В молодые годы, когда я был достаточно самонадеянным, мог сказать: давайте я Вам подскажу – что нужно делать – это когда они вдруг покажут мне свои сочинения. Как будто я мог подсказать что-то такое, что не могли сделать их собственные педагоги по композиции. Теперь я в этом не уверен. Мне приятно, когда ко мне приходят, показывают своё сочинение и спрашивают: что Вы на это скажете? Меня бы здорово выматывало и истощало, если бы я свои силы тратил на педагогику в области композиции. Меня устраивает на данный момент то, что я занимаюсь инструментовкой. Надеюсь, что я делаю это по праву. Для того, чтобы учить, надо понимать, как кто-то может что-то не понимать, из того, что нужно понять. Это должно быть неотъемлемым свойством педагога. Одно время меня тяготила педагогическая деятельность тем, что она меня заставляла видеть в себе то, чем я не являлся: «Кирилл Алексеевич» - что-то менторское, возрастное, обязывающее к чему-то. А сегодня – страшное дело – у меня это исчезло. Наоборот, мне нравится не то, что меня уважают, а то, что я нужен, что я могу что-то сказать. Мне нравится, когда возникают новые идеи на уроке. И бывает приятно, когда что-то получилось.
|