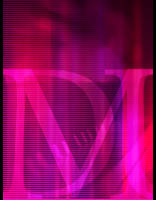Симптоматично, что в музыке Караева тема любви не только существует в синтезе с темой смерти, но и неизменно сопровождается этой ритмоформулой судьбы, то есть темой рока в традиционном, профессионально-технологическом значении термина. Первое появление этой роковой ритмоформулы во вступлении симфонической поэмы «Лейли и Меджнун» дано в уменьшении (дважды повторенная ритмическая фигура из триоли трех шестнадцатых и восьмой) и особо подчеркнуто тремя forte у кларнетов, фаготов, валторн и контрабасов (ц.1 такт 2). Впоследствии этот традиционный «знак рока» неоднократно возобновляется, упорно повторяясь в разных вариантах на протяжении всей темы вступления: триоль трех восьмых и половинная опять-таки на трех forte с подключением впервые и именно на момент трехкратного проведения мотива судьбы – дублирующей его всей группы ударных, за исключением литавр (три такта до ц.6). Первоначальный вариант изложения мотива, возвращающийся через 12 тактов (ц.7. т.5), хотя и без ударных, звучит более мощно по сравнению с первым проведением, усиленный дублировкой у труб, тромбонов и тубы. В таком ритмически точном проведении он играет во вступлении именно роль властного запрета, грозного предупреждения. В дальнейшем развертывании симфонической поэмы мотив судьбы встречается лишь один раз в ясном, подчеркнуто-четком трехкратном «произнесении» медных на трех forte (ц.29, тт.1, 3, 5) на фоне нервно-напряженного tremolo всех остальных инструментов оркестра в момент кульминации, превращаясь из грозного предупреждения в действенно-жесткий механизм силового подавления. Интересно, что из рассматриваемых сочинений только в «Семи красавицах» тема рока не играет столь важной роли. Ясно и отчетливо она проводится лишь в сцене смерти Визиря, начиная с ц. 36 (триоль трех восьмых на интервале октавы), причем тоже повторяясь абсолютно точно трижды через каждые два такта просто как «музыкальная констатация» смерти. В балете «Тропою грома» ритмическая «формула» судьбы впервые появляется в №11, в сцене Ленни и Герта (тт.14-15), затем в заключительной сцене второго действия (№28, ц.102, тт.1-2, 4, 10). Еще чаще эта ритмоформула звучит в сцене вербовки (третье действие, №29, 2-3 такты до ц.1, затем следует ее трехкратное повторение: ц.2, тт.8, 9, 10 и т.30, проводится она и в сцене шествия (ц.30, тт.1, 4, 14), и в №30, в Pas d’action, она неоднократно повторяется (ц.35, тт.1, 2, 3, 4 и ц.44, тт. 1, 2, 3, 4).
В более поздних творениях Караева: «Дон Кихоте», «Неистовом гасконце» знаковым становится сам принцип рондальности, связанный с проведениями темы судьбы на протяжении всего произведения. В «Дон Кихоте» ее неизменное проведение при постепенном росте ее «удельного веса» в вариантно повторяющихся «Странствиях» (№1, №3 и №5) – ничто иное, как все более упорное напоминание о трагическом исходе романтических странствий героя, обреченности его поисков справедливости, любви, красоты и свободы в несправедливо устроенном и уродливом обществе. Впервые мотив судьбы появляется в первой гравюре как легкий намек, на mf, и не в повелительной интонации, а скорее как промелькнувшая тень сомнения: «вопрошающий» скачок после триоли восьмых на квинту вверх (тт.6-7). Более уверенное и грозное звучание эта ритмическая фигура обретает в октавном удвоении в той же гравюре (тт.29-32). Здесь она повторяется трижды, с явным усилием и преодолением, затем еще дважды (тт.34-35т.). В третьей гравюре эта же ритмоформула судьбы непрерывно повторяется на протяжении пяти тактов с усилением звучности до ff, в одной и той же плотной фактуре второго септаккорда с пониженными основным тоном и терцией (тт.28-32). Несколько снижается ее грозный тон в октавном изложении в пятой гравюре (тт.13-14). Зато в восьмой, заключительной гравюре «Смерть Дон Кихота», как бы подводя итог всем странствиям, констатируя обреченность поисков героем своих идеалов во внешнем мире, этот ритмический символ судьбы безраздельно воцаряется на одном затихающем и все медленнее повторяющемся (ritenuto, diminuendo, pp) звуке «а» на протяжении последних десяти тактов (тт.61-71). Тот же принцип рондальности в отношении проведения ритма судьбы в «Неистовом гасконце»: он открывает, опять-таки в трехкратном повторении, №2 (хор «Гвардейцы-гасконцы») и звучит в конце каждой картины («Реминисценция №2») первого и второго действия. Очень завуалировано проводится эта ритмоинтонация и в №6, «Ариозо Сирано», где она, синкопировано вторгаясь в общий кантиленный стиль вокальной партии героя, трижды «выбивает» ее из широкого, ровного, хотя и несколько скорбного характера развертывания, в сферу речитативно-декламационную, заставляя сразу «свернуть» всю фразу. Только в финале – пятой картине второго действия, мотив судьбы повторен лишь дважды: смерть Сирано словно обрывает ставшее привычным третье проведение мотива.
И Дон Кихот, и Сирано приходят в конце жизненного пути к осознанию, что нет расстояния между их подлинной целью и их собственной сущностью во внутренней реальности. Странствия Дон Кихота, подвиги Сирано во имя красоты, любви, свободы, справедливости были лишь внешним проявлением внутренней природы героев: для каждого из них это был, по сути, трудный путь от утверждения своих идеалов во внешнем мире к своей внутренней сущности. Поэтому в завершении симфонических гравюр сквозь замирающие повторы одного звука «а» в ритме судьбы слышна эта устало-примиряющая интонация последних слов любимого героя композитора: «Я больше не Дон Кихот из Манчи. Я снова Алонсо Кихана, которого некогда называли Алонсо Добрый» 37. Поэтому и «Неистовый гасконец» завершается возвратом лейтмотивом проходившей на протяжении всей героической музыкальной комедии мелодии хора «Гвардейцы-гасконцы». Эта тема возвращается с последней вопросительной фразы-призыва слабеющего Сирано в первоначальной тональности хора (f-moll): «Ну, где вы, гвардейцы-гасконцы, далекого юга сыны?», которую сначала на pianissimo подхватывает хор гвардейцев с постепенным усилением звучности до mf, и даже последующий спад звучности не снижает значимости заключительного утверждения героической романтики вечных идеалов, живущих в каждой благородной душе: «верность и честь с нами всегда».
При внешней строгости «бесконечно добрый и человечный» 38 Кара Караев во многих жизненных ситуациях не раз приходил к выводу о безнадежности «внешней» борьбы с «общественной тормозящей воинственной косностью» и в его письмах появлялись горькие слова: «больше не хочу растрачивать жизнь и силы впустую, на борьбу с ветряными мельницами. С болью в сердце я навсегда прощаюсь с моим любимым рыцарем…»39. А через несколько лет ему приходилось вновь напоминать самому себе: «надо […] бросить бесплодные попытки выправить то, что по природе своей должно быть кривым…Так что же копья ломать? Как я до сих пор не хотел этого понять!» 40. И, хотя композитор оговорил в первом из цитируемых писем, что его вынужденное прощание с любимым рыцарем Дон Кихотом «во всем, кроме музыки», все же до конца распроститься с ним он не смог. И на музыке не могли не отразиться печальные результаты его многолетних «ума холодных наблюдений и сердца горестных примет». Это заметно сказалось в виде определенного «остужения» прежнего убежденно-страстного тона высказывания, отказа от слишком откровенной музыкальной речи. Караев-композитор становится сдержаннее, суровее, тщательнее «процеживая» эмоциональность интонации сквозь «сито» интеллекта; горячая, полнокровная страстность и сила высказывания уступают место иной, более истонченной и сдержанной манере выражения чувств и мыслей. Эти изменения и в своей музыке, и в самом себе композитор, обладавший четким аналитическим умом, в начале 60-х годов, как всегда, сам осознал и отметил в письме к Ю.Слонимскому: «Многое во мне стало иным. Хуже стал характер: раздражительный и злой (внутренне, а не внешне) […].Совсем иными стали критерии в этике и эстетике. С возрастом изменилась настройка: все, что я писал и делал раньше, кажется мне наивным, глупо-восторженным и излишне откровенным» 41. Это очень жесткая оценка изменившимся Караевым собственного творчества 40-50-х годов, ведь это написано о «Лейли и Меджнуне», «Семи красавицах», «Тропою грома». И признание композитора для нас важно именно как констатация изменений в самом Караеве как личности. Показательно, что весной 1968 года композитор опять-таки сам констатирует потерю (в первую очередь в себе) важных чисто человеческих качеств: «мы […] приучили себя к сдержанности и сухости и тем самым все же многое утеряли хорошего, нужного для человека..» 42. Симптоматично и относящееся к этому же времени, печальное наблюдение Лео Гинзбурга: «Я застал, вместо всегда жизнерадостного, активного, сильного духом, ушедшего в себя, мрачного и, безусловно, больного духом человека» 43. А ведь Караеву в ту пору было всего лишь 50 лет! Его сердечная отзывчивость, доброта, человечность, энергия, сильная воля и мощный интеллект не исчезли, они превратились в конфликт во внутреннее противоречие; отсюда эта внутренняя раздражительность и злость: он начал сражаться сам с собой. Внутренняя гармония, целостность личности были нарушены, а когда утрачивается целостность, вслед за этим неизбежно приходит ощущение бессмысленности и опустошенности. Слова композитора: «В музыке я беспощадно переломил себя» 44 обычно относят исключительно к сфере технологии композиции, к резкой смене системы средств, но эта система у подлинного художника, каким был Караев, никогда не меняется без изменений в самом человеке. Без изменения «внутренней настройки», без глубокого перелома во «внутренней музыке» не происходят резкие изменения в средствах выражения. Вообще пути развития настоящего искусства никогда не определяются причинами технологического порядка, они обуславливаются причинами более высокого уровня: духовно-нравственными, философскими, эстетическими и т.п. В случае с Караевым, очевидно, тоже не случайно, произошло совпадение изменения, перелома внутренней настройки с открытием, что в отношении композиторской техники он, как и все советские композиторы, «отстал» от Запада на 50 лет. В поздних караевских сочинениях изменилась и система средств, и само качество экспрессии, потому что изменился сам Караев. Но при этом неизменной сохранилась в психологии творчества композитора проблема трагического исхода любви в условиях тех предрассудков и ограничений, которые лежат в основе «различных социально-общественных устоев – и далеких прошлых времен, и современности» 45 и которые, в сущности, просто демонстрируют несовершенство общественного устройства.
Поэтому и тема безумия, оказывающегося, по сути, вызовом обществу, протестом и стремлением человека отстоять свою индивидуальность, тоже не случайно связывается в творчестве Караева с темами героики, любви и смерти. Его любимые герои – неистовые романтики, бунтующие, не умеющие спокойно жить были так похожи на него самого, что даже одно из писем к нему бесконечно восхищавшийся им и горячо любивший его Роман Кармен закончил словами «мой милый психованный Карик» 46. О том, насколько глубоко волновала композитора проблема рокового противостояния индивидуальной возвышенной устремленности и воинственной общественной косности, свидетельствует тот факт, что он планировал создание ряда одноактных балетов, сам идейный замысел которых свидетельствует о глубоком проникновении в суть проблемы. В записных книжках Кара Караева сохранился этот долго вынашиваемый композитором, но, к сожалению, так и не реализованный им план создания трех одноактных балетов, условно названных композитором «Великие безумцы». Даже отрывочные заметки, сделанные Караевым в связи с этими балетами, свидетельствуют о необычайно глубоком философско-этическом замысле:
«1) ДОН КИХОТ рыцарь печального образа. Безумен не он, а мир ужаса, горя и темноты, окружающий его и враждебный ему […].
2). «МЕДЖНУН». Все ясно. Безумен мир, разлучивший его с любимой и убивший его, а не он.
3) Записки сумасшедшего. Поприщин – Гоголь и его страдания.
10 июля 1972. Москва. В реальном мире безумцы противопоставляются миру его воображения, вернее, миру, который его отринул. Этот мир […] который как бы идеал бедного чиновника, постепенно превращается в сборище свиных рыл, харь и бредовые видения больного воображения (вспомнить Гойю) […]. И сталкиваются два Поприщина – безумный и разумный в мире ужаса, страха и мучений (курсив мой. – Р.С.)» 47.
Мысль, что причины зла, царящего в этом мире, «скрыты в глубине общественных отношений» 48, что общество, которое против самого существа человека, против его любви, свободы, его неповторимой индивидуальности – это безумное общество ясно прослеживается в этих заметках. И потому же караевские романтические герои, до неуместности бескорыстные, чистосердечные и благородные, не вписываются в обыденную картину серого существования этого общества. Они «выглядят как скитальцы в этом мире сумасшедших. Настоящие люди всегда известны как путешественники, мечтатели, поэты, как бродяги, которые живут неизвестно где […]. На них навешивают такие ярлыки, потому что этот мир принадлежит бумажным червям. Они не настоящие. Бумажные черви, когда они сталкиваются с настоящими людьми, называют их мечтателями и поэтами. Таким образом они их осуждают, и таким образом они защищают себя» 49. Романтики, мечтатели-одиночки всегда осуждаются обществом, потому что оно признает только трезво и шаблонно мыслящих, посредственных и фальшивых людей, во всем подражающих друг другу. Неслучайно и в театральных постановках режиссера Тофика Кязимова с музыкой Кара Караева положительные герои – это именно осуждаемые обществом одиночки, нарушающие общепринятые нормы: «безумный» шекспировский Гамлет и пьяница Искендер, единственный положительный герой пьесы Д.Мамедкулизаде «Мертвецы», бросивший вызов обществу людей-мертвецов, открыто высмеивающий их духовное убожество, невежество, ханжество, фанатизм и мещанство. Кстати, и Т.Кязимов отмечал «родство» этих двух героев: для него «образ Искендера – это Гамлет востока» 50.
Замечание Б.Яворского: «разумно-индивидуальному еще равнозначно противостоит общественная рассудочная заинтересованность» 51, сделанное по поводу этого противостояния во «Франческе да Римини» Чайковского, по сути, означает, что в таком мире настоящие индивидуальности обречены либо стать изгоями, либо умереть, либо, беспощадно переломив себя, идти на компромиссы. Только посредственности легко идут на любые компромиссы и прекрасно чувствуют себя, оказавшись частью толпы, ибо вокруг такие же посредственности. Поэтому они могут даже уйти из мира вполне удовлетворенными внешними показателями успешной жизни: почетными званиями, наградами, материальным благополучием, общественным признанием. Но настоящие индивидуальности, имея все это, уходят из мира с сознанием, что в их жизни из-за этих вынужденных компромиссов потеряно, упущено нечто очень важное, они уходят с горьким ощущением, что жизнь растрачена попусту. Как можно иначе объяснить эти слова Караева: «Я собираюсь уходить. Я ухожу не оглядываясь, а глаза мои полны слез. В лучшую свою пору я потерял то, чего я не имел. Не случилось того, что должно было случиться. Солнце светило не для меня, ветер дул не для меня, море разговаривало не со мной. Я ухожу не оглядываясь, ибо оглядываться тяжело до боли в груди. И это пишет не юнец, а человек, который прожил жизнь, обманувшую его» 52. В последние годы жизни он и музыку не мог писать, как сказал Фарадж Караев в одном из интервью, не потому, что был болен, а наоборот: «Скорее – болел, потому что страдал от внутреннего разлада с самим собой (курсив мой. – Р.С.)...» 53.
Сожалея о том, что ценнейшее воздействие музыки, которое обогащает наш внутренний мир, при попытке описания, объяснения, перевода образного содержания «оригинала» на другой язык теряет едва ли не самое существенное, Б.Асафьев признавал, что все-таки потребность в таком «пересказе» неискоренима, «ибо музыка – идейный мир и в ней ценно как то, что звучит, так и то, что образуется вокруг звучания: лучи мысли, причиной которых она является» (курсив мой. – Р.С.)» 54. Поэтому «чем полнее музыковедение вбирает в себя метод и содержание общечеловеческого мышления, тем богаче, многограннее и плодотворнее становится его профессиональный метод» 55. И поскольку художественное произведение непременно распространяет вокруг себя энергию мысли, всякое «устойчивое обоснование – стадия к будущим, еще более устойчивым, – писал Асафьев, – но лишь пафос обожания и любви помогает увидеть скрытое и услышать неслышное в суете житейской и в тисках школьных табулатур. […] Поэтому я не могу не склоняться перед памятью П.И.Чайковского, чья музыка заставила меня задуматься над музыкой» 56. И мы не можем не склоняться перед памятью Кара Караева, музыка которого заставляет задуматься над жизнью, поскольку при создании музыки он всегда проецировал познаваемый жизненный «объект на себя, а себя, содержание своей личности – на объект» 57, побуждая к тому же слушателей. Подобным же образом должен строиться и подлинно научный процесс осмысления музыки и различных ее интерпретаций в контексте исследования всего человеческого опыта жизни, отраженного в музыке. Такой подход к музыкальным явлениям, при котором познаваемый объект проецируется исследователем на себя, а содержание его личности – на познаваемый объект самоценен, поскольку направлен на достижение более высокого уровня сознания самого познающего. Что может быть важнее для каждого человека, а в особенности – для ученого? Думается, с этим согласился бы и Кара Караев, который говорил, что «в каждом произведении искусства автор задается целью заставить слушателя, зрителя или исполнителя задуматься над тем или иным кругом проблем» 58 и чьим девизом были великие слова: «Только вперед, только вперед…»
37.Цит. по: Карагичева Л. Симфонические гравюры «Дон Кихот»/Кара Караев. Статьи. Письма. Высказывания. М.,1978. с.284.
38.Карагичева Л. Кара Караев. Личность. Суждения об искусстве. с. 82.
39.там же. с.87.
40.там же.
41.там же, с.94.
42.там же. с.85.
43.там же. с.94.
44.там же.
45.Абасова Э. О новаторских принципах в творчестве Кара Караева с.18.
46.Цит.по: Карагичева Л. Кара Караев. Личность. Суждения об искусстве с.269.
47.Цит.по:Гаджибеков И. Шло тенью проидеологизированной…Читая Записные книжки Кара Караева//Музыкальная академия.2002. №1.с.175.
48.Цит.по: Карагичева Л. Кара Караев. Личность. Суждения об искусстве. с.196.
49.http://www.yastr.com/tibetan_pulsing/Osho_comments_on_the_Yoga_Sutras_Rishi_Patanjali/
50.цит.по: Кязимова Л.Музыка и театр. Кара Караев – Тофик Кязимов.// Вспоминая Кара Караева. с.128.
51.Яворский Б. Избранное, М. 1987,т.2,ч.1., с. 207.
52.Цит.по:Кязимова Л. Музыка и театр. Кара Караев – Тофик Кязимов// Вспоминая Кара Караева. с.129.
53.http://www.karaev.net/t_int_musacad1.html
54.Асафьев Б. Шопен в воспроизведениях русских композиторов//Асафьев Б Избр.труды. т.4. М., 1955.с.321.
55.Медушевский В. О методе музыковедения//Методологические проблемы музыкознания: сб. ст. М., Музыка, 1987.c. 230.
56.Асафьев Б.Симфонические этюды. с.193.
57.Кара Караев. Личность. Суждения об искусстве.с.123.
58.там же. с.118.